То, что началось на территории будущей УССР после смерти Богдана Хмельницкого, историки называют Руиной. Интересное название! Говорящее. Кто его ввёл в оборот — непонятно. Костомаров писал, что на Украине его использовал народ. Может быть, и так. В любом случае в XVIII веке летописец Самойла Величко его уже знал.
Умирая, Богдан вложил булаву в руки своего сына Юрия. Это был сложный выбор: Юрасю ещё шестнадцати лет не исполнилось, по нашем меркам — старшеклассник. Тем не менее полковники Войска Запорожского с таким решением согласились. И даже назначили ему опекуна — генерального войскового писаря Ивана Выговского. И это был уже не просто сложный выбор, это была ошибка!
Выговский — православный шляхтич из-под Киева. Воевал против казаков, попал в плен при Жёлтых водах и… Сменил знамя в первый раз — ушёл в казаки. Хмельницкий молодого рыцаря полюбил ещё до войны (Выговский был писарем при комиссаре Речи Посполитой над Войском Запорожским): парень был смышлён, хорошо образован (знал церковнославянский, польский, латынь), был великолепным каллиграфом, что сам гетман, долго бывший на Сечи писарем, не мог не оценить. Что до предательства… Казаки и сами часто меняли сторону, так что этим Богдана Михайловича было не удивить.
Иван Выговский стал личным писарем Хмельницкого, исполнял дипломатические поручения: исполнял успешно — пронырливости и хороших манер бывшему шляхтичу и новоявленному казаку было не занимать. Вместе с Богданом составлял «Реестр Войска Запорожского 1649–1650 годов». Сейчас «личный писарь» звучит странно, но в XVII веке эта должность подразумевала руководство большой канцелярией, которую Выговский гетману и создал. Причём создал под себя.
При этом уже при жизни Хмельницкого Выговский стал «двойным агентом». Он работал на Москву, но об этой своей работе уведомил гетмана, поэтому отправляемые царю донесения корректировал в пользу Богдана Михайловича. В общем, хитрый лис!
Получив под опеку Юрася Хмельницкого, он практически сразу уговорил его передать булаву себе любимому. Интрига была закручена хитроумно: сначала Иван Евстафьевич, выпивая с заслуженными казаками, сетовал на то, что «лыцарям» приходится слушаться юнца, у которого молоко на губах не обсохло. Потом передал Юрию, что старшина ропщет и не хочет ему подчиняться. Само собой, Хмельницкий-джуниор с концептуальным вопросом «Что делать?» обращался к опекуну и другу отца. На что тот отвечал: выйти к народу и сложить булаву. Мол, у казаков так принято, избранный должен долго отнекиваться и принять должность нехотя и через силу. Тем временем сам Выговский выкопал клад, зарытый Богданом на чёрный день, и стал подкупать казачий круг. В общем, когда Юрась последовал совету и сложил полномочия, круг вместо ожидаемых уговоров выкрикнул на гетманство Выговского…
И тогда демонстративно отказываться от булавы стал сам Иван Евстафьевич! Причём играл бывший шляхтич настолько искусно, что простые как две копейки казацкие полковники поверили, будто писарь колеблется и не желает брать из рук сына Хмельницкого булаву. В общем, принять на себя бремя власти казаки Выговского заставили. Ну, то есть они так думали…
Алексей Михайлович, видя, что гетманом стал его «агент», возрадовался и воздал хвалу Господу, увидев в этом Божий промысел. Тем более что Выговский не уставал клясться в личной преданности царю.
Как и любой интриган, популярен новый гетман не был: народ не любит скользких типов. Уже в феврале 1658 года Сечь восстала против него. Во главе восставших стали кошевой атаман Яков Барабаш и полтавский полковник Мартын Пушкарь. По словам греческого митрополита Колоссийского Михаила, проезжавшего по Украине в 1657 году: «Гетмана Ивана Выговского заднепровские черкасы любят. А которые по сю сторону Днепра… и вся чернь ево не любят, а опасаютца того, что он поляк, и что б де у него с поляки какова совету не было». Про Ивана Евстафьевича говорили, что он «не природный казак, а купленный у татар за лошадь лях, женатый на дочери польского магната». Были и более серьёзные обвинения: Москва выслала гетману 60 тысяч золотых — на выплату жалования казакам. Но войску из этой суммы не досталось ни копейки — Выговский деньги закрысил. Такого казаки не прощали!
В Москву полетели жалобы на гетмана, Выговский в свою очередь слал письма, в которых молил царя не верить восставшим, а послать войско — прикрыть границу от поляков, пока он не разберётся с Сечью. Царь послал на Украину доверенного человека — окольничего Богдана Хитрово. Но, пока Хитрово ехал разбираться в ситуации, восстание разрасталось. Мартын Пушкарь стал набирать из черни полк дейнеков — вооружённых дубинами и рогатинами бойцов. Гетман отправил на подавление восстания полковника Ивана Богуна с верными казаками, но Пушкарь Богуна разбил, а тут и Хитрово прибыл в Переяслав.
Окольничий, поговорив с аборигенами, решил разрулить ситуацию, назначив Выговского гетманом от лица Алексея Михайловича. В присутствии полковников и митрополита Киевского Дионисия Балабана Иван Евстафьевич отдал булаву царскому посланцу и получил её обратно — из его рук. Теперь Выговский получил власть официально. Он объявил, что войско готово к войне хоть с поляками, хоть со шведами и начал рассылать универсалы о «мобилизации». Одновременно Хитрово получил принципиальное согласие гетмана на присылку в города Малороссии царских воевод. Окольничий отправился в Лубны, где встретился с Пушкарём и добился роспуска «своевольного войска».
Мир достигнут? Как бы не так! Это только наивному Хитрово казалось, что казачьи клятвы чего-то стоят. Пушкарь дейнеков распустил, но подчиняться гетману не стал, к тому же продолжал удерживать земли Чигиринского полка. Вдобавок казаки Миргородского полка отстранили от должности наказного полковника Леонтия Козла и выбрали себе нового — Степана Довгаля, сторонника Пушкаря. Гетман выслал против Пушкаря Нежинский, Прилуцкий и Черниговский полки, осадившие Лохвицу, но осада не задалась, Пушкарь снова набрал дейнеков, в результате сторонники гетмана были вынуждены отступить.
А Пушкарь отправил в Путивль посольство во главе с Иваном Искрой и своим сыном Марком. На этот раз восставшие не были голословны. Искра довёл до сведения путивльского воеводы, что под Канев уже пришли нанятые гетманом крымские татары и что Выговский послал полковника Павла Тетерю к полякам — «призывать ляхов на разорении Малой Росии и его великого государя Черкасским городам». Данные Пушкаря были точны: Тетеря уже начал переговоры со Станиславом Беневским — волынским каштеляном. На встрече обсуждались военные действия против России. Вот только Алексей Михайлович Пушкарю не верил, а верил гетману…
Гетман действительно призвал на помощь крымских татар. Хмельницкий поступал так же, но Богдан призвал орду на ляхов, а Выговский — на своих. 4 мая 1658 года гетман с татарами выступил к Полтаве, где осадил Пушкаря. Но на сторону восставших перешёл уважаемый запорожцами полковник Филон Джеджалий. Он условился, что ночью восставшие нападут на ставку гетмана, а он со своим полком поддержит атаку. Так и случилось: 11 июня Пушкарь пошёл на вылазку, Джеджалий ударил с тыла, восставшие ворвались в шатёр гетмана, но… Никого там не нашли! Хитрый лис Выговский знал о нападении, поэтому спал одетым и с началом атаки успел вскочить на коня и ускакать к татарам. Пушкарь обвинил Джеджалия в зраде и тут же убил его, в это время вернулся Выговский с татарами и Пушкарь то ли погиб в бою, то ли попал в плен и был убит. Его голову преподнесли гетману в качестве подарка.
Гетманские войска взяли Лубны и Гадяч, жителей охваченных войной областей тысячами угоняли в рабство татары — так Выговский расплачивался за подмогу. Барабаш отступил в русские украинные города, но был арестован — по просьбе гетмана Алексей Михайлович издал соответствующий указ. Полковника повезли на суд в сопровождении 200 русских драгун и донских казаков, но на конвой напали сторонники Выговского и отбили Барабаша. Старого казака отвезли к гетману, где его долго пытали, привязав к пушке, а затем казнили.
А по Украине поползли тревожные слухи — работала «канцелярия» Выговского. Говорили, что «москали» всех малороссов заставят одеваться, как русские мужики, и носить лапти. И что казакам запретят носить красные сапоги, а заставят носить чёрные. Иван Евстафьевич знал, какую инфу распространять: на Украине было тревожно — в ходе войны в казаки поверсталась масса «посполитых», простого народа. Стало некому платить подати, и то, что вопрос будет как-то решаться, всем было понятно. Слухи легли на подготовленную почву. Натуральное ИПСО!
Реальности в слухах не было ни на грош: царь не зря носил прозвище Тишайший. Алексей Михайлович не любил резких движений и тем более не собирался делать их в таком деликатном вопросе — Москве от Малороссии были нужны не деньги, а бойцы. Но Выговский настоятельно рекомендовал царю прислать на Сечь 60-тысячный реестр, в который следовало включить только потомственных казаков, а всех примкнувших — исключить. Хитрый гетман понимал, что результатом такого шага будет массовое возмущение и восстание.
А слухи разлетались всё страшнее и страшнее: «Царь приказал сократить реестр до 10 тысяч!», «Москва ставит в Киеве своего митрополита, а нашего к себе заберёт!», «Горилку курить и мёд ставить запретят, везде царёвы кабаки заведут!» Но это — для «чёрного люда», а для элиты были страшилки пострашнее: «Царь собрался вернуть Украину полякам взамен на корону Речи Посполитой, вернутся паны в свои имения!» Это был реальный ужас — шляхетские имения давно уже прикарманила казачья старшина…
Выход Выговский предлагал простой: самим уйти под Речь Посполитую на своих условиях и с сохранением всего нажитого непосильным трудом. Соглашение было заключено в Гадяче в сентябре 1658 года. Малороссия возвращалась в состав Речи Посполитой под названием «Великое княжество Русское». Казачий реестр на словах оставался прежний — 60 тысяч сабель. В реальности Выговский обещал шановным панам сократить его вдвое. За что себе выговорил, помимо уже имеющийся гетманской булавы, сенаторское звание и хлебную должность первого Киевского воеводы.
Гадячская рада стала первым Майданом: представлением, изображавшим народный выбор, но в реальности разыгранным как по нотам опытным интриганом. Выговский вывел перед сидящими с перначами в руках полковниками польских послов Беневксого и Евлашевского и выкрикнул: «Войско Запорожское изъявляет желание вечного мира с Речью Посполитой, если только услышит от господ комиссаров милостивое слово его королевского величества!» Само собой, «милостивое слово» было сказано и…
Выговский не был бы сам собой, если бы не схитрил и здесь! В 1659 году вновь разгорелась война между Россией и Речью Посполитой. Русская армия боярина Алексея Трубецкого выдвинулась в Малороссию. Выговский начал водить боярина за нос, утверждая, что верен царю, и Алексей Никитич, не понимая, что делать, упустил инициативу. Гетман дождался подхода орды и наёмных польских хоругвей, после чего внезапно 27 июня 1659 года атаковал войска Трубецкого, осаждавшего Конотоп.
Татары с казаками применили известный приём, которым и сами русские владели в совершенстве, но который крайне сложно опознать — ложное отступление. Когда войско гетмана «дрогнуло», Трубецкой послал в погоню сливки русской армии — дворянское ополчение во главе с князьями Семёном Пожарским и Семёном Львовым. Участник битвы и будущий учитель Петра Великого воинскому делу генерал Патрик Гордон писал так: «Пожарский преследовал татар через гать и болото. Хан, незаметно стоявший с войском в долине, вдруг вырвался оттуда тремя огромными, как тучи, массами»…
Из всего русского отряда только рейтарский полк полковника Фанстобеля сумел развернуться и дать в упор залп из карабинов по атакующей татарской коннице, но силы были слишком не равны. «Татарские смертоносные стрелы брызгали как дождь» — писал очевидец. У русских воевод было под началом не более 6 тысяч человек, у хана Мехмед IV Гирея — около 40 тысяч. Из кровавой сечи удалось вырваться живым Михаилу Голенищеву-Кутузову — предку победителя Наполеона: «Михайло Степанов сын Голенищев Кутузов сечен саблею по обеим щекам, да по левому плечу, и по левой руке». Но большей части отряда повезло куда меньше — вырвавшихся из окружения можно пересчитать по пальцам (если считать и пальцы ног, пара десятков набралось), сливки русской поместной конницы погибли или попали в плен.
Конотопская битва — один из столпов украинского национального мифа. Но почему же в воспоминаниях о том бое нет описаний яростных атак казаков Выговского на москалей? Ну… Просто потому, что казаки в сражении не участвовали. Имеется в виду со стороны победителей: в отряде Пожарского и Львова сражались казаки наказного гетмана Ивана Беспалого, удостоившиеся за тот бой похвалы от Алексея Михайловича. А вот гетманские казаки к сражению не успели — подошли через несколько часов после разгрома отряда Пожарского и Львова.
Боем с поместной конницей боевые действия под Конотопом не ограничились. Получив вести об окружении Пожарского, Трубецкой отправил на подмогу воеводам отряд Григория Ромодановского. Не успев оказать помощь поместной коннице, будущий «князь-кесарь» занял важную позицию на реке Куколке. Именно на его отряд и вышел Выговский с казаками и польскими наёмниками. Имея трёхкратное превосходство в силах, гетман атаковал, но добиться успеха не смог: Ромодановский спешил свой отряд и окопался. Гетман атаковал до вечера, но безуспешно: воевать с единоверцами казаки не рвались, основной силой Выговского были польские наёмники.
Отступил Ромодановский после того, как казак-перебежчик из полка Беспалова показал войску гетмана тайную тропинку через болото — в тыл «государевым ратным людям». Армия Трубецкого разгромлена не была: 30 июня Выговский решился на штурм русского лагеря, но все атаки были отражены, сам гетман — ранен, а русская контратака выбила его войска из собственного табора. Несмотря на успешное отражение вражеской атаки, смысла в осаде Конотопа больше не было: имея перед собой орду, заниматься копанием параллелей и ведением апрошей — не самое умное занятие и Трубецкой увёл армию.
В миле от города Выговский вновь попробовал атаковать. И снова безуспешно. По словам пленных, потери гетмана и хана составили около 6 000 человек. Что особенно печально (для Выговского!), потери понесли польские наёмники: братья гетмана, командовавшие наёмными хоругвями, вспоминали, что «ляцкого де войска убит маер и хорунжие и капитаны и иные начальные многие люди». Потери русской армии на отходе, напротив, были минимальные.
4 июля путивльский воевода князь Григорий Долгоруков выступил на помощь Трубецкому, но тот отдал ему приказ вернуться в Путивль: сил для обороны от хана и Выговского хватало. С 4 по 10 июля русская армия переправлялась через реку Сейм. Выговский с татарами пытались противодействовать переправе, но, кроме нескольких возов, повреждённых артиллерийским огнём, успеха не достигли. И да, полковнику Николаю Бауману, который командовал полком солдатского строя, во время отступления прикрывавшим русский арьергард, после битвы царём было присвоено звание «генерал-поручик» — первое генеральское звание в России! Звание было вполне заслуженным: полк в тяжелейших боях потерял не более 100 человек. Земляки-немцы в восхищении от заслуг генерала Баумана написали в его честь стихотворение на немецком языке…
Итоги Конотопской битвы для России были обидны, но потери не столь уж велики: убитыми и взятыми в плен Трубецкой потерял 4 769 человек. Были казнены татарами взятые в плен князья Пожарский и Львов, вместе с ними 249 «московских чинов». Такая расправа над знатными пленниками была необычна для татар, предпочитавших брать выкуп за «ясырь». Но хан имел целью «употребить все старания, чтобы укрепить вражду между россиянами и казаками, и совершенно преградить им путь к примирению», писал позже турецкий путешественник и свидетель битвы Наим Челеби.
А вот Выговскому победа не помогла. Гадячский договор устраивал далеко не всех запорожцев. Ещё в 1658 году восстание против гетмана поднял легендарный полковник Иван Богун. К Богуну присоединились Иван Беспалый и Иван Серко. После Конотопа, объединившись с армией Ромодановского, восставшие разбили Выговского в битвах под Лубнами и Лохвицей. Гетман попытался стать турецкоподданным — обратился к султану с просьбой о принятии Украины в подданство «халифу правоверных». Помощь предоставили, как обычно, крымские татары. Но Богун с Серко разбили татар и двинулись на гетманскую столицу — Чигирин.
Выговский бежал, а булаву вернули Юрасю Хмельницкому, который в присутствии представителей Алексея Михайловича подписал Переяславские статьи 1659 года. Согласно им, в Киеве, Переяславе, Брацлаве, Нежине и Умани размещались русские гарнизоны, казакам запрещалась начинать войну без согласия царя, смещать гетмана и посылать послов в любые иностранные государства. А вот по требованию царя на войну казаки должны были идти беспрекословно и туда, куда скажут.
А что же Выговский? Он бежал в Речь Посполитую, объединился с отрядами Анджея Потоцкого и Яна Сапеги. Планов у бывшего гетмана было, как водится, громадьё, но воевода Василий Шереметьев их жестоко порушил, разгромив Ивана Евстафьевича под Хмельником. Оставшись без войск, Выговский самовольно присвоил себе чин Великого гетмана коронного и продолжил воевать с Россией в отряде Потоцкого. Потом осел в Баре на Подолье, получив у короля Барское староство в Киевском воеводстве. В Бар перебралась его жена с малолетним сыном — живи да радуйся! Но, как видно, шило в шароварах у Ивана Евстафьевича имело просто фантастические размеры!
Гетманщина разделилась на Правобережную и Левобережную. На Левобережной прочно закрепилась Россия, а на Правобережной были нюансы. Гетманом там выбрали Павла Тетерю. Павел Иванович был сторонником Речи Посполитой, но Выговского сильно не любил! Когда Ян Казимир решил, что Левобережье тоже неплохое место, и выступил походом на Северскую Русь (современные Харьковская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Гомельская, Брянская, Курская и Белгородская области), то боевые действия для поляков сразу пошли не так, как задумывались.
Проще говоря, королю надавали по рогам. При этом против поляков выступили даже правобережные казаки, которых не устраивал в том числе и Тетеря. Собрав тридцатитысячную армию, повстанцы установили связь с левобережным гетманом Иваном Брюховецким и Россией. Тетеря был человек без чувства юмора и подобных фокусов не понял — восстание подавил жесточайшим образом. Когда взяли предводителя восстания Дмитрия Сулимку, выяснилось, что за его спиной стоял… Бинго! Иван Евстафьевич Выговский, решивший в очередной раз сменить знамя. В общем, 16 марта 1664 года старого лиса и короля интриги банально расстреляли.
Выговский — человек, с которого началась Руина. Но это не значит, что с его смертью она закончилась! Этот процесс был длительный, захватывающий, но малость однообразный. Поэтому стоит продолжить рассказ о той части Украины, где данное действо не происходило, — Слобожанщине. Благо места эти сегодня на слуху…



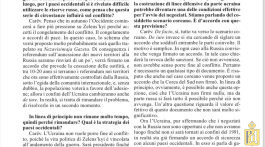





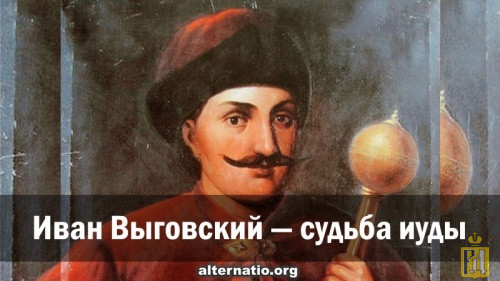
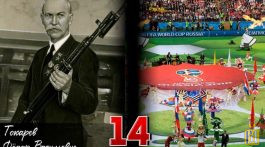



Нет Комментариев