Как справедливо отмечал историк Олег Пленков, прошлое – это не формирующийся естественным образом продукт деятельности людей, а всегда предмет различных попыток её интерпретировать в собственных интересах или просто инструментализировать [3]. Это в полной мере характерно и для истории современной Испании.
Современная историография в Испании, особенно после принятия сначала Закона об исторической памяти, а затем Закона о демократической памяти, предельно однобока по части оценок Гражданской войны в Испании. Наиболее известным историком, занимающимся периодом 1936-1939 гг., является профессор Анхель Виньяс, фактически отражающий «официально принятую» после смерти Франко леволиберальную версию гражданской войны, включающую в себя отрицание факта развёртывания параллельно с войной глубочайшей социальной революции.
По сути, леволиберальная историография (ярким представителем которой является историк Пол Престон) представляет республиканцев демократами, а их противников, франкистов, этаким злом во плоти. При этом, как отмечает известный американский историк, профессор Стэнли Пейн, идея о том, что повстанцы выступили против демократического режима, не более чем миф. На самом деле Республика уже не была демократичной, в ней действовали мощные революционные силы, которые были настроены на уничтожение своих противников.
— отмечал Пейн в одном из интервью.
Одним из инструментов переписывания истории в Испании является «историческая память».
«Историю используют в качестве оружия»
Значение Франсиско Франко в истории Испании сравнимо со значением Иосифа Сталина для истории России, однако, как отмечает Стэнли Пейн, в какой-то степени Франко был даже более успешным политиком. С одной стороны, он не смог превратить Испанию в крупную военную державу, чего он желал с самого начала, в отличие от Сталина (который создал действительно великую военную державу), однако, с другой стороны, он ставил после себя более процветающее и более современное общество – более успешное, чем то, которое оставил после себя Сталин [4].
Несмотря на достаточно противоречивое отношение к фигуре Сталина в научной среде, в России достаточно много исторических работ как откровенно восхваляющих его, так и откровенно осуждающих. Есть и более объективистские работы, в которых историки указывают как на негативные стороны его правления (жёсткая борьба с инакомыслием, репрессии, тоталитаризм), так и позитивные (превращение России в великую военную державу, индустриализация, выигранная Вторая мировая война), не акцентируя внимание на какой-то из них. В Испании всё несколько по-иному.
Благодаря Закону об исторической памяти и Закону о демократической памяти, оценивать Франко можно только негативно, сторонники же более объективного подхода или тем более те, кто симпатизирует генералиссимусу, автоматически попадают в разряд «ревизионистских историков». Это позволило испанским «правым» утверждать, что «левые» превращают историю в политическое оружие.
Официально под «демократической памятью» в Испании понимаются действия для защиты жертв гражданской войны в Испании и режима Франко. Ещё до того, как в 2018 г. глава ИСРП Педро Санчес возглавил правительство, социалисты представили в кортесах предложения по правкам в Закон об исторической памяти 2006 г., предполагая, что новый закон может стать «законом об исторической и демократической памяти» [2].
Реакцией на это предложение стал появившийся в 2017 г. манифест «За историю и свободу», под которым было поставлено 200 подписей. Авторы манифеста выразили протест против указанной законодательной инициативы, связанной с «открытием старых ран» и навязыванием «единомыслия», отмечая, что
Среди противников нового закона – известный историк Стэнли Пейн, который отмечал, что память индивидуальна и субъективна и никогда не бывает «исторической» или «коллективной». Политизированная же версия пропаганды «исторической памяти» повторяет и навязывает свою версию событий. Политиков, по его словам, не интересует история, речь идёт не о е1 пересмотре, а о её политизации или отмене.
Испанский историк и политик Хуан Ван-Хален, в свою очередь, отмечает, что в Испании концепция «исторической и демократической памяти», включает в себя
При этом это не называется «ревизионизмом». Как отмечает Стэнли Пейн, напротив, «ревизионизм» – это слово, которое в настоящее время в Испании используется для описания тех, кто не согласен с политкорректностью.
Взгляды на ситуацию Стэнли Пейна мы рассмотрим несколько подробнее.
Влияние на историю политкорректности – новой религии Запада
В своей книге «Spain. A Unique History» (Испания. Уникальная История), Стэнли Пейн отмечает, что среди историков изучение истории, с одной стороны, вроде как расширилось, а с другой – ослабло под влиянием политизации и современных культурных тенденций. Доминирующей тенденцией на Западе является идеология политкорректности, полностью утвердившаяся к 1990-м годам, и последствия теории постмодернизма – два разных, но взаимодополняющих направления [1].
Это привело к тому, что в университетах были полностью исключены некоторые дисциплины, например, такие как военная история, а также привело к значительному ослаблению внимания к политической истории. Основные темы заменены сравнительно второстепенными, при этом большинство исследований должны соответствовать новому священному триединству расы, класса и пола – новому «культурному марксизму». Исследования, которые не соответствуют этим критериям, всё чаще исключаются из университетов, где практика приёма на работу в области гуманитарных и социальных наук становится откровенно дискриминационной [1].
После Второй мировой войны травматический опыт стимулировал не только огромное количество новых исторических исследований, но и заботу об «исторической справедливости», о сведении счётов с прошлым. Одно из отличий испанской системы от многих других новых демократических систем заключалось в том, что поначалу в Испании не так сильно развивались процессы создания новых национальных мифов, чтобы замалчивать или объяснять негативные аспекты недавнего прошлого [1].
Это связано с тем, что именно таковыми были условия демократизации Испании – после смерти Франсиско Франко страна достаточно быстро перешла от авторитаризма к демократии, при этом ни одна из политических партий не прибегала к насилию. Переходный период в Испании стал первым примером демократизации изнутри, при которой для трансформации страны использовались законы и институты авторитарного режима.
При этом в других странах Европы существует множество мифов о национальной жертвенности. Австрийцы, большинство из которых с энтузиазмом поддерживали нацизм, создали новый национальный исторический образ Австрии как просто «первой жертвы» Гитлера, способствуя формированию нового культа национального самоуважения. В новой демократической Японии существовала значительная тенденция закрывать глаза на массовые преступления предыдущего военного режима [1].
В Испании второй половины 1970-х – 1980-х годов не существовало какой-либо полностью господствующей точки зрения, по крайней мере, до появления идеологии политкорректности в конце XX века. Как уже было сказано, одной из требований «испанской модели» демографического перехода был отказ от политики мести, что означало отказ от любых политических или судебных поисков «исторической справедливости». Однако затем ситуация изменилась.
Стэнли Пейн пишет, что с течением времени появилась «Чёрная легенда переходного периода», распространяемая крайне левыми. Согласно этому мифу, переходный период в значительной степени состоял из зловещих манипуляций бывших франкистов, а слабые левые элиты сотрудничали в целях умиротворения и, чтобы добиться перехода к новой демократической системе, согласились на «пакт о молчании», согласно которому все преступления франкизма будут полностью игнорироваться и останутся безнаказанными.
— пишет Пейн.
Консенсус, отвергавший политизацию истории гражданской войны и диктатуры, в целом сохранялся всеми основными партиями до первой половины 1990-х годов, когда, собственно, и возникло движение «историческая память». А в первые годы XX века начался новый этап в развитии этого движения, состоящего из множество различных групп, многие из которых преследовали политические цели. Некоторые из этих групп требовали осуждения Франко и его режима и, как следствие, всех тех, кто сражался против левых в Гражданской войне. Результатом стали полусистемные попытки переписать и сфальсифицировать историю.
— отмечает Стэнли Пейн.
Виктимизм (представление себя в качестве жертвы) чрезвычайно важен для нынешней политики политкорректности.
— утверждает Пейн.
Характерно, что в Испании такие вопросы редко обсуждаются, а чаще всего просто утверждаются политической элитой.
Заключение
В целом можно сказать, что с начала XXI века и по сей день в Испании проводится политика, связанная с преодолением наследия франкизма. Причём не брезгуют нынешние левые либералы и «новые левые» и борьбой с могилами, поскольку помимо войны с памятниками уничтожается символическая инфраструктура, зачастую связанная с культом павших. Так, например, Кладбище мучеников в Мадриде, где некогда был установлен щит с фалангистскими символами, после принятия закона 2007 года переименовали по названию района Аравака, где оно находится.
В 2019 году из Долины Павших вынесены останки Франко, которого похоронили на кладбище Мингоруббио в Мадриде, неподалёку от его резиденции Эль-Пардо. Некоторые борцы с франкистским наследием утверждают, что «необходимо уничтожить нынешнее символическое значение» Долины Павших и относиться к ней не как к месту почитания мучеников, но как к месту исторической памяти. «Их борьба»…
При этом, как уже было указано выше, понятие «историческая память» не научное, а активистское и совершенно необъективное. Это прежде всего понятие политическое, которое обозначает борьбу со старыми нарративами, демонтаж монументов и памятных досок, переименование улиц и населённых пунктов, цензурные меры, ограничения собраний, решения в сфере уголовной ответственности и прочее [7].
То есть мы имеем дело с переписыванием истории в соответствии с «новой этикой» и политкорректностью. Как отмечает Стэнли Пейн:
Использованная литература:
[1]. Payne Stanley G. Spain. A Unique History. – Madison, Wisconsin : The University of Wisconsin Press, 2011.
[2]. Е. О. Гранцева. Закон о демократической памяти в Испании: попытка консолидации или новая фаза конфликта? // Латиноамериканский Исторический Альманах. № 36. 2022.
[3]. Пленков О. Ю. Что осталось от Гитлера? Историческая вина и политическое покаяние Германии. — СПб.: Владимир Даль, 2019, Стр.7.
[4]. См. Stanley G. Payne and Jesús Palacios. Franco: A personal and Political Biography, University of Wisconsin Press, 2014.
[5]. Stanley G. Payne La política de la memoria // El Manifiesto. 22 de abril de 2021.
[6]. «El objetivo de la ley de memoria histórica es trazar una línea tajante entre «buenos» y «malos» // ABC. 17.12.2006.
[7]. Зыгмонт А. И. (2023). «Мученики за Бога и Испанию». Philosophy Journal of the Higher School of Economics, 7(1), 128-164.





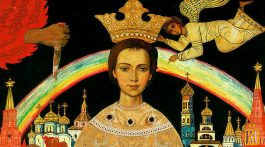







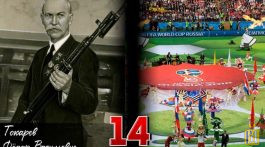

Нет Комментариев