14 апреля родился русский писатель Леонид Иванович Бородин (1938–2011)
Леонид Бородин был русский, тщательно огранённый советской властью «человек-догмат», всё существо которого жило идеей лично ему необходимого возрождения России.
При жизни и после смерти его любят или ненавидят как «русиста» или как человека, ценят как писателя, отдают должное его воспоминаниям («Без выбора»), скупо отзываются как о поэте и вообще не пишут о нём как о публицисте.
А он считал себя политическим публицистом и, хотя написал немного, но часто делал это очень точно и ярко. В его Собрании сочинений (М., 2013) публицистика отложилась в седьмом, последнем томе.
При этом он говорил, что публицистика «не любимый» им писательский жанр, и что ему приходилось заставлять себя это делать, как главного редактора.
Его «иначемыслие», как он выражался, началось с басни про Хрущева, после написания которой его исключили из Иркутского университета. Далее был переезд под Питер, членство во «Всероссийском социал-христианском союзе освобождения народа», крупнейшей антисоветской организации 60-х годов. Арест, первый шестилетний срок и по выходу продолжение самиздатовской деятельности, вослед уже разгромленному журналу Осипова «Вече».
Бородин всегда настаивал, что он «не боролся с советской властью, просто жил сам по себе… не совпадая. Только и всего».
«Мы позволяли себе… погрезить неким далеким будущим, в котором слово «Россия» не будет иметь никаких синонимов, мы представляли себе это слово щедро разбросанным на карте евразийского материка, отказавшегося от сатанинской задумки устроения на своих меридианах земного рая… образ возрожденного Русского Православного Царства пребывал в наших душах. Как всякий образ, он был прекрасен и стоил того, чтобы посвятить ему жизнь».
Для советских органов этого было вполне достаточно, чтобы после отвергнутого Бородиным предложения эмигрировать, посадить писателя в лагерь еще на 15 лет, из которых он отсидел пять и был выпущен в 1987 году.
«Государство, как форма национального обособления, интернациональным быть не может». Русист-консерватор
Его любовь к России была по-детски чистой и искренней, и по-взрослому выстраданной. А потому он был резок с теми, кто считал Россию «историческим недоразумением» и говорил, что с такими людьми у него «не может быть ничего общего».
Мне кажется, что кроме глубокого чувства к своей Родине, он одновременно был способен и на отстраненный логический анализ, осмысление и предмета любви, и своего чувства.
Одной из оригинальнейших «догм» им сформулированных есть следующая: «государство, как форма национального обособления, интернациональным быть не может. Оно может лишь исповедовать идею интернационализма».
Это гениально сформулированное противоречие советской государственности, доказывало одновременно и её вне национальность, то есть не русскость, и не возможность долгого существования такого образования, не имеющего никакой почвы, кроме утопическо-идейной.
Любовь Бородина была исторически осмысленной. Он писал: «Мы интереснейший народ в истории человечества, что «с нами не соскучишься» и нас не проигнорируешь — это ещё византийцы понимали».
Вообще его публицистика — это публицистика особого рода. Художественная публицистика писателя, наполненная яркими психологическими образами.
Как психологически точно он описывает наше национальное, по-детски искреннее отношение к жизни, что часто может объяснять и наши политические срывы: «Обычному ребенку, к примеру, свойственно задавать вопрос: «Что это?» Ему отвечают: «Это нечто». Он запоминает. А другой… Ему говорят: «Это розетка». Он кричит: «Почему?» И тут же суёт в неё пальцы. Вот это мы!.. «Что? Социализм?! — взвизгивает русский мальчик. — Да как мы после этого смеем кушать три раза в день!» срывает с младшей сестренки розовый передник, нацепляет на отцовскую трость и с развевающимися волосами выскакивает на улицу…».
«Не будучи сыновьями, будем братьями?» Коммунизм как антихристианская идея
Понимая эту психологическую национальную подвижность, Бородин был, пожалуй, самым строгим современным критиком социализма и советского периода. Он вступал в борьбу с этими идеями и никогда не боролся с самими носителями этой идеологии.
Главной ахиллесовой пятой коммунизма, главной его опасностью он считал атеизм.
«Социалистическая идея как мечта о всечеловеческом братстве не имеет иного происхождения, кроме как из ощущения сиротства — прямого следствия атеизма… пусть как оказывается, у нас не было и нет одного общего Отца, но тем не менее останемся же братьями и возлюбим друг друга пуще прежнего, как брат брата! Не будучи сыновьями, будем братьями?»
Социализм предлагал отказаться от небесного сыновства, отказаться от Бога и предлагал взамен псевдобратство во имя некоей «справедливости» и утопического «социального рая на земле». И здесь очень точно. Отказавшись от сыновства во Христе, невозможно стать и братьями. Это и есть трагедия социализма, отказавшегося от верующего союза с Богом и пытающегося образовать интернациональное братство между людьми на «пустом месте» социальных отношений.
«Социализм есть форма активного отрицания религиозного мировоззрения… Социалист потому не может не быть атеистом в христианском понимании теизма… Социалистическое мировоззрение в целом есть трагедия индивидуального сознания, утратившего язык общения с высшими истинами или «не дотянувшегося» до них».
Почему собственно и никакого христианского социализма быть не может. И все ссылки на первых христиан, как на якобы живших в коммунистических общинах — это внеисторическая ложь.
«В сознании первых христиан начисто отсутствовали какие-либо социальные перспективы. И уж тем более идея социальной борьбы — краеугольный камень социализма — была принципиально чужда христианам апостольских времен».
Коммунизм сам прекрасно понимал, что христианство — это противоположное ему мировоззрение. В «христианский социализм» Бородин не верил и называл его «сладкой селедкой».
«Объявив войну Православию, коммунисты пытались прервать, перекрыть источник культурного созидания, и это удалось им лишь частично, поскольку, будучи людьми идеи, а не веры, не могли они предполагать и учесть фактор «долговременности» действия первоисточника».
Коммунисты строили, как выражался Бородин «надбогоубежище», режим жизни в стране, через который было крайне сложно пробиться к Богу.
«Когда перед коммунистами встала проблема формирования нового советского человека, они эту труднейшую проблему решили блестяще, исключительно верно расставив основные вехи: 1) разгром и дискредитация определенных национальных сословий, 2) погром цементирующей национальной идеологии, взращённой в недрах Православия, 3) тотальная ревизия истории народа».
О «зачеркивании» и «перечеркивании» консерваторами советского периода
Как и все мы, Бородин наслушался за свою жизнь всевозможных разговоров за социализм и за советскую власть. И, как говорил, эти разговоры почти всегда сводились к сентенциям о том, что мол советскую власть нельзя «зачеркивать», что советские достижения нельзя «перечеркивать», а советский период нельзя «вычеркивать».
Да, «зачеркнуть нельзя, — писал он, — Но дать оценку в параметрах добра и зла — не только можно, но с нравственной оценки, собственно, и начинается историк как таковой, оценкой исторического факта он отличается от хроникера и бытописателя».
Более того, он считал «вопрос оценки социалистического периода» важнейшим вопросом для современного русского общества. И особенно настаивал на поиске ответа на вопрос о характере «логической связи социалистической революции с предшествующими этапами русской истории». Ответ, на который, по его мнению, только и давал возможность перейти к определению «ценности тех или иных социалистических завоеваний и, соответственно, о пользе или вреде «зачеркиваний» и «перечеркиваний» их».
Это по-настоящему логичный путь прояснения всех этих болезненных вопросов. Если не дать оценки советскому периоду, то никак не возможно и говорить о всех этих «ценностях» или «потерях», о воссоединении советского и несоветского и т.д.
Прежде чем что-то с чем-то соединять или разъединять, надо разобраться в ценностной составляющей советского периода.
Развивая мысль Достоевского, Бородин утверждал, что: «если Бога нет, то коммунизм прав. Но парадокс в том, что если Бога нет, то прав и гуманизм-либерализм, и соревнование этих двух безбожных правд было главным содержанием прошедшего XX века».
И действительно, если атеизм прав, то безбожные правды политических идеологий XX века должны в XXI столетии заново выяснять, кто из них сильнее. Если же Бог есть, то неправы и коммунизм, и либерализм, и национал-социализм, и демократия, и республика, и гуманизм в целом, ставящие одинаково человека мерой всех вещей, вместо Творца.
Кстати, легкое пересаживание из комсомольских и коммунистических кресел в демократические, «странная органичность» этого процесса наводила Бородина на мысль «о подозрительном корневом родстве социалистическо-интернационалистической модели культуры с нынешнем буйством пошлости и откровенного сатанизма».
Все неправды одинаковы в нравственном смысле, все они внерелигиозны, и все аморальны. И все они используют насилие в достижении своих целей. Бородин даже считал, что «насилие — вообще единственное средство построения прокоммунистической социальности» и что «коммунизм может существовать только в тоталитарной форме».












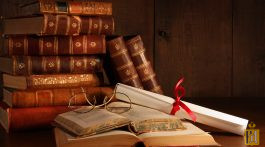


Нет Комментариев