В целом 2024 год – это своего рода мировой выборный год. Избираются и переизбираются все и вся, сложно найти месяц, в котором бы не начинались несколько серьезных политических циклов. Но все это, за недавним исключением Франции, плановые кампании.
В Иране же избирательная кампания идет не только вне плана, но в силу трагических обстоятельств.
И крупные, и региональные игроки эти выборы воспринимают очень серьезно. Получится ли, в силу фактора трагической внезапности, повернуть внешнеполитическую линию Тегерана, или наследники Персидской империи останутся на своих нынешних позициях, а если останутся, то насколько полно будет обеспечена преемственность.
Второй вариант, вне всякого сомнения, исключительно важен для России, для которой Иран – один из важнейших геополитических партнеров.
Прежде чем перейти к рассмотрению персоналий претендентов на президентское кресло и, соответственно, сил, стоящих за ними, посмотрим на общее и различное в региональных проектах крупных игроков.
США
Для США, как бы это ни показалось странным, Иран – это уже довольно долгое время не экзистенциальный противник, даже не симулякр такого противника. Иран для Штатов – это часть переговорной позиции по Ближнему Востоку.
Используя ядерную программу и иранскую региональную экспансию как аргумент, Вашингтон преследует цель спаять страны Персидского залива и Индию в некое подобие политического и торгово-экономического блока.
Это задача концептуальная, и решается она уже больше восьми лет – с того периода, когда стало понятно, что сирийская кампания результата не приносит, а силовое нахождение в Ираке не имеет перспектив. Концепция «Большой Ближний Восток» была заменена на «индо-авраамическую». Последняя в несколько приемов прошла путь от чисто политических деклараций («соглашений Авраама») до развернутого и подробного «доклада Салливана».
На этом пути Иран для США – это не столько военный враг, сколько помеха в установлении границ этого «индо-авраамического блока», ведь Иран плотно контролирует торговые каналы Ирака, Ливана и Сирии, получая оттуда ценный валютный ресурс и укрепляя влияние.
Для решения этой задачи США с прошлого года предпринимают попытки наконец-то взять под контроль средние и низовые финансовые потоки в этих странах, через проникновение и влияние в местные платежные системы. Этим же США решают другой вопрос – сокращение финансовой базы движения «Хезболла».
В качестве своего рода пряника Штаты периодически проводят разблокировку иранских финансовых активов, закрывают глаза на некоторые торговые каналы, а также запускают дискуссии по возврату к «ядерной сделке».
Камнем преткновения для индо-авраамической концепции, очевидно, являлся и является Израиль. США не могут исключить Израиль из этой конструкции, но без решения вопроса «двух государств» ни одна из аравийских стран в нее не пойдет.
Наоборот, получается, что Израиль только укрепляет Иран в тех границах, которые США так стремятся отодвинуть. Таким образом, именно Израиль для США – это главная проблема, а Иран – только повод, для переговоров с аравийцами о различных комбинациях сотрудничества.
Великобритания
Позиция Великобритании – одновременно и антииранская, и антиамериканская. Иранское влияние отрезает британцев от возможности воздействовать на север региона, а реализация концепции США делает нефтеносный юг и Индию своего рода самостоятельными экономическими субъектами.
Ни то, ни другое, не нужно для того, чтобы новая Ост-Индская компания, которую строят британцы, контролировала торговые потоки, тем более в такой полноценной экономической связке.
Именно поэтому Лондон делал и будет делать все возможное, чтобы турки и сирийская «оппозиция» продолжали существовать в неопределенности на севере Сирии (из последнего – это поставки якобы иранских БПЛА курдам), а на юге Израиль совершал вещи на грани безумия.
Гораздо больше, чем США, Лондон поддерживает «иранскую гражданскую оппозицию», одновременно открывая (в пику, опять-таки, США) для того же Тегерана каналы для проведения платежей, фрахта судов и т. д.
Китай
Китай рассматривает региональную политику как трехконтурную.
Первый контур – это страны, входящие в т. н. «Сообщество единой судьбы», с которыми формируются общие не только торговые, но и торгово-производственные отношения.
Второй контур – это страны, лояльные Китаю, но не разделяющие идеи «Сообщества» – они видятся как часть торговых и логистических цепочек, но без совместного производства.
Третьи контур – это ЕС и США, где Китай вынужденно берет технологии. Они представляют крупнейшие рынки, но это рынки, с которыми приходится вступать в сложные споры, доходящие зачастую до санкций.
В этом плане Китай уже крепко привязал к себе Иран экономически, иранцы не могут себе позволить (пока) согласиться на китайский концептуальный проект, в котором Ирану отведена роль второго регионального партнера под китайским влиянием.
Россия
Россия на Ближний Восток на данный момент оказывает очень мало конкретного и ощутимого влияния. Основные военные контингенты из Сирии выведены. После помощи Дамаску в отражении атак Турции, Москва вышла из активной позиции, перевела все в т. н. «Астанинский формат». В Ираке с Ираном у нас полноценной синергии нет.
Отказавшись в прошлом году от идей «Сообщества единой судьбы» и сосредоточившись на западном направлении, в условиях санкций Россией было решено очередной раз строить «что-то свое».
Были обновлены идеи «Большой Евразии» как некоего полюса, реанимированы идеи коридоров под общим названием «Север – Юг», но главное – это возрождение и ввод в большой политический дискурс идей «Россия плюс Глобальный Юг равно антиколониализм».
То есть, опираясь на внешней торговле на Китай, Москва решила попытаться заново протолкнуть старые идеи, вроде укоренения в Центральной Азии, через Иран попасть как Афанасий Никитин в Индию и заодно собрать политическую фронду Западу от всех Западом же обездоленных, хотя аравийские монархии с этим термином соотносятся с трудом.
То, что идеи торгового пути «Север – Юг» – это долгое и только гипотетически возможное предприятие, на Западе представляют неплохо, да и не только там. Мы с Ираном выйти за рамки 5 млрд долларов торгового оборота не можем годами, причем больше по нашим внутренним причинам, и только в меньшей степени по иранским. Системной работы «на Юг» особо не просматривается, и это понятно – коридоры особо нечем насыщать в плане промышленных товаров.
Запад
Однако Запад весьма чувствительно относится к идеям «антиколониализма» и вообще реанимации этих идей, даже самого термина Глобальный Юг. Вовсе не потому, что им как в рассказе А. Гайдара про прогульщицу Нину Карнаухову «было очень тяжело на сердце» и их «грызла беспощадная совесть».
Просто на идеях вроде «Глобальный Юг требует… чего-то» много стран могут или уже выдвигают дополнительные условия и просят от США конкретных преференций. И это же относится и к таким «пострадавшим от колониализма» странам, как аравийские монархии.
Коридор «Север – Юг» США мало интересует, а вот реинкарнация Глобального Юга, не нужна совсем. Например, у Саудовской Аравии завершился 50-летний договор с США о торговле за доллары США (те самые «нефтедоллары») в обмен на военное сотрудничество, а как продлевать или заключать новый?
Надо собирать всех на «саммит мира» в Швейцарии, да Глобальный Юг не видит выгод, и что предлагать?
И таких проблем у США из-за Глобального Юга уже миллион. Только это не экономика, это не «распад империи доллара», это затратная внешняя политика.
С заднего двора
Специфика Ирана заключается в том, что после окончания ирано-иракской войны ему пришлось выстраивать экономическую систему, которая встроена в общемировую, что называется, «с заднего двора».
С Ираном никогда не прекращалась торговля даже в период усиления санкций. Можно вспомнить старый эпизод вроде «иран-контрас», но там не эпизоды. Просто Тегеран встраивался в мировую торговлю всегда через сеть малопрозрачных схем.
Это как концерн Siemens в России и Иране – санкции есть, поставок нет, турбины есть. Правда, у Siemens Тегеран благополучно в свое время взял не только турбины, но и технологии. Теперь турбинами он торгует сам, например, с Россией.
Все это оказало сильнейшее влияние на процесс формирования в Иране двух экономических и общественно-политических контуров – военного и гражданского. Дело в том, что в таких условиях развитие внешней торговли стало прерогативой военно-политического крыла.
Это логично, поскольку кто еще будет договариваться о сложных схемах в Ираке, Ливане, Иордании, Афганистане? Кто будет решать «сложные вопросы» с Катаром и Оманом? Это не тематика гражданской торговли.
Таким образом военные стали одними из главных добытчиков валюты, а также тем проводником каравана верблюдов, без которого караван до рынка не дойдет, а если дойдет, то обратно с деньгами не вернется.
А ведь это не только торговля сама по себе. Это и возможность обучения детей по разным специальностям за рубежом, широта контактов, уровень жизни. Больше денег – больше кланового влияния на политику.
В итоге между условным КСИР и частью «обычных военных» и гражданского общества пролегла трещина, которая то уменьшалась в размерах, как во время первого президентского срока Х. Рухани, то вновь увеличивалась. Но с середины 1990-х она уже никогда не затягивалась.
Все сопутствующие проблемы, которые связаны с тем, что одна социальная группа имеет больше, чем другая, находясь в одинаковых условиях, характерны и для иранского общества. Одни развлекаются на закрытых вечеринках в Персидском заливе, другие вынуждены развлекаться по квартирам, потому что на улицах «блюстители нравственности».
Но это обычные детали, а вот главное – это то, что КСИР фактически регулирует приток в страну валюты. Соответственно все шишки от проблем с внутренними курсами и сложностями, как взять валюту, как оплатить что-то во вне Ирана, как просвети это до поставщика или принять это – все это ложится на голову КСИР как главного виновника.
Санкции
Почему санкции? Потому что КСИР везде в регионе работает и повсюду на штыках с западными структурами, значит они и виноваты. Под какими лозунгами в свое время бузили в Иране «гражданские»? «Ни Сирия, ни Ливан – наш дом Иран».
Понятно, что главный рынок сбыта сырой нефти для Ирана – это Китай, более того, Китай даже включил Иран в свой юаневый внутренний платежный контур. Таким образом, Тегеран имеет возможность получать любую валюту. США эти транзакции не видят, правда, и реальную цену поставки не знает никто.
Но эта валюта идет на инфраструктуру, в которой нуждается Иран – социалку, дороги, трубопроводы и перерабатывающие производства. Но есть еще много иных производственных секторов, которые тоже нуждаются в валюте, а это уже зависит от того как работает военный финансовый «пылесос» Ирана на Ближнем Востоке. И не всегда раздраженный «гражданский» в данном случае понимает, что если КСИР свою экспансию в Ирак, Афганистан, Ливан, Сирию остановит, то денег у него больше не станет – их станет только меньше.
Отсюда на Западе всегда лелеяли надежду на то, что рано или поздно санкции сработают, и гражданское общество, которое действительно подустало от финансовых проблем, прогонит «мулл и военных». Однако иранское общество не хочет никого гнать, оно просто требует от правительства найти какой-то способ устойчивого развития, не теряя иранской, как это принято говорить, «идентичности».
Они не идут, как хотят на Западе, против системы, они хотят большей гибкости от системы. Вот как только в Иране случаются беспорядки, так сразу на Западе пишут статьи в прессе в стиле «наконец-то началось». А оно не началось. В Иране протесты – это вообще исторически часть общественного поля, другое дело, если они начинают переходить границы и рамки. Там протестуют раз в год, а то и два. Но западная пресса неумолима – раз забузили таксисты, то «началось».
Тем не менее острота проблемы остается. Общество хочет получать специальности, возможность учиться, развивать местное производство и иметь доступ к каналам сбыта, а еще больше – к адекватным каналам финансирования всего изложенного. И только в последнюю очередь вопрос касается «системы». Это требование гибкости.
Поэтому в Иране нет понятия «либерализм», там есть понятие «реформизм». А вот тех, кто как М. Ахмадинежад от реформизма перешел в откровенный популизм, а оттуда уже приблизился как раз к западному либерализму, тех просто не пропускают через «кандидатский фильтр» на выборах.
Таким образом, мы видим, что экспансия Ирана на Ближнем Востоке – это не только, как любят говорить западные спикеры, «гегемония», а как раз следствие западных же санкций.
У Ирана забрали валюту, он, как вода, просочился во все возможные региональные торговые каналы и нашел валюту сам. И разрушение Сирии и Ирака руками американцев только усилило эти возможности. Причем Иран в регионе еще идет и под флагами того самого «антиколониализма», «справедливости» и проч. С целой плеядой талантливых стратегов вроде погибшего К. Сулеймани.
А мы ушли на север
В этом плане отношения с Россией всегда для Ирана были неоднозначными. В плане «ядерной сделки» и войны в Сирии, где от Москвы требовалась не только военная сила, но и решение вопросов с аравийскими монархиями и в ООН.
Часто вспоминают, как Москва не поставила в Иран комплексы С-300, присоединившись к санкциям, но на самом деле проблема вовсе не в этом. Просто в Иране не понимали и не понимают до сих пор, что конкретно на Ближнем Востоке хочет Россия.
Если она там закрепляется и будет забирать какой-то кусок, то кусок этот будет потенциально иранский. Если она там не закрепляется, то какие проекты и кому оставит. По сути дела, если рассмотреть вопрос предметно, то в регионе мы вроде как есть везде, но нас нет нигде.
Но это мы знаем сейчас, постфактум, а к концу военной кампании в Сирии все выглядело далеко не столь однозначно.
Во-первых, мы защитили законный режим Б. Асада, что было беспрецедентно для того масштаба противостояния.
Во-вторых, мы с аравийцами достигли знаковых договоренностей по нефтяному сектору «ОПЕК+». Году так в 2015 никто бы об этом и не подумал. У нас оказались сильные позиции в Ираке. Конечно, в Тегеране хотели понять, что дальше.
А дальше мы «ушли на север», оставили только базу в Сирии, центр по примирению, точечное влияние и удалились заниматься своими делами.
Нельзя сказать, что мы вообще не конвертировали военные успехи тех лет – это ОПЕК+ и очень неплохие отношения, часто синергичные с аравийскими монархиями. Но в целом это, конечно, выглядело необычно, особенно на фоне тех же американцев, которые вцепляются в регионе, как клещ, за каждую точку.
Повторять это не стоит, но все-таки осмысленной региональной программы от нас ждали и от нее уже готовы были формировать в Иране и свою политику. Но программы не было. У нас ее не было не то что для Ближнего Востока – для Центральной Азии. Евразийство было – евразийских программ системных не было, а если и были, то на бумаге.
Провал политики президента Х. Роухани, который был реформистом – через ядерную сделку и СВПД добиться снятия пусть не всех, но хотя бы основных санкционных ограничений, уникальная специфика политики России, желание сохранить самостоятельность перед лицом Китая, не меняя при этом концепции работы с Афганистаном, Пакистаном, Ираком, Сирией и Ливаном, в общем-то, органично повернули взгляды Тегерана вначале на север. Но не только и не столько с прицелом на сотрудничество с Россией, сколько с прицелом на формат именно ЕАЭС.
При Х. Роухани Москва периодически сама предлагала сотрудничество по этой линии – велись переговоры, запущены были в работу договора о ЗСТ, стратегическом партнерстве и т. д. Но нельзя сказать, что все это шло системно, хотя это не только вопрос к России. В Иране тоже в тему ныряли так же периодически. Все-таки ожидали частичного снятия ограничений от Запада и были определенные планы на то, чтобы это направление использовать.
Уже после прихода к власти недавно трагически погибшего Э. Раиси Иран, наоборот, активизировался, но опять-таки не столько с прицелом на Москву, сколько на сам формат ЕАЭС в целом. Это огромный рынок сбыта, рынок транзита оборудования, при этом льготный по торговым барьерам. Однако встречно, параллельным курсом, разрабатывался и второй серьезный проект – тот самый коридор в Большую Индию, где Афганистан, Индия и Пакистан выступают как некий общий экономический регион.
Здесь наши идеи «Север – Юг» интересны Ирану скорее как тема для сотрудничества с ЕАЭС, чем собственно гипотетические миллиарды от транзита «Мурманск – Мумбаи». Для Ирана Мурманск и ЕАЭС – это один рынок, который де-факто оканчивается в Иране, а Мумбаи и Исламабад – это другой рынок.
С какого придет больше, сказать иранцам сложно, но Иран в любом случае оказывается «срединной региональной державой». ЕАЭС – это рынок товаров, в том числе и санкционных, а Индия и Пакистан – рынок для энергосырья, альтернативный китайскому, причем с сильным потенциалом.
Выбор
Вот в таких условиях и с такими проектами Ирану придется сейчас идти на новые внеочередные выборы. И выбор кандидата тут будет не просто означать, как у нас традиционно говорят, «западник» или «самостийник», нет, здесь выбор будет стоять иначе.
Реформист будет первым номером развивать тематику условного «Мумбаи», далее – договариваться о разделе сфер влияния с США на Ближнем Востоке и только третьим номером он будет нацелен на ЕАЭС, хотя все подготовленные при Э. Раиси договора подпишут быстро.
Консерватор будет первым номером нацелен на рынки ЕАЭС, далее – на максимальное усиление Ирана на севере Ближнего Востока, где-то обостряя отношения с США – до нахождения максимальной точки влияния, и уже третьим номером совместно работать на проектом «Мумбаи». Не потому, что юг не интересен, но здесь часть приоритета будет отдана традиционной иранской геополитике.
Вот с этой точки зрения уже в следующем материале можно будет рассмотреть программы кандидатов, которых после прохождения «кандидатского фильтра» из восьми десятков осталось шесть.






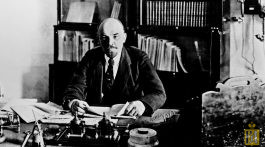







Нет Комментариев