News Front продолжает на основании уникальных архивных документов раскрывать забытые страницы истории нашей страны столетней давности
В прошлой публикации мы акцентировали внимание на последних боевых операциях врангелевской армии в Новороссии в период с июля по октябрь 1920 года. После неудачных попыток прорыва за Днепр и штурма Каховского плацдарма занесённый над последним оплотом южнорусской контрреволюции – белым Крымом дамоклов меч начал быстро и неумолимо опускаться.
Так, 12 октября 1920 года по итогам мирных переговоров в Риге Советская Россия заключила перемирие с Польшей. Советско-польская война завершилась поражением большевиков и отторжением от России западноукраинских и западнобелорусских земель. Она же поставила крест на их планах по организации мировой революции, но в то же время полностью развязала им руки для уничтожения внутренней контрреволюции, самым опасным представителем которой оставался закрепившийся в Таврической губернии генерал Пётр Врангель.
Ещё 19 августа 1920 года, когда разбитые войска Западного фронта Михаила Тухачевского спешно отступали от Варшавы, Политбюро ЦК РКП(б) признало врангелевский фронт главным и приняло все меры для пополнения его резервами и переброске туда наиболее боеспособных и надёжных военных соединений. Уже к началу сентября 1920 года в составе трёх действовавших против Врангеля армий Юго-Западного фронта насчитывалось около 40 тысяч штыков и свыше 7000 сабель, тогда как в составе Русской армии Врангеля было только 25 тысяч штыков и 8000 сабель.
Когда в 20-х числах октября в состав образованного ранее Южного фронта Михаила Фрунзе вошли переброшенная с польского фронта 1-я Конная армия Семёна Будённого и новообразованная 4-я армия Владимира Лазаревича, то красные войска достигли численного перевеса над противником в пехоте – в 4,3 раза, в кавалерии — в 2,9 раз, по количеству артиллерийских орудий – в 2,5 раза, по количеству пулемётов – в 1,6 раз. Соотношение по бронетехнике (бронеавтомобили, танки, бронепоезда) было примерно равным, по авиации у красных наблюдалось явное превосходство – 84 аэроплана в составе войск Южного фронта (правда, далеко не все из них были исправными) против 22 исправных самолётов у Врангеля.

Враг, ставший временным союзником
Отдельно следует сказать и о том, что в преддверии решающего наступления против Врангеля большевики заключили временный военно-политический союз с Повстанческой армией Нестора Махно. Стоит напомнить, что анархо-повстанцы Махно с успехом воевали как против белых, так и против красных, доставляя немало хлопот и неприятностей, тем, кто занимал их основной район действия – Екатеринославскую и частично Таврическую, Херсонскую и Харьковскую губернии. Так, одной из причин неудачного наступления Деникина на Москву летом 1919 года, как и попыток Красной Армии овладеть Крымом зимой-весной 1920 года стали именно не признававшие ни большевистской, ни белогвардейской власти махновцы, борьба с которыми отвлекала значительную часть сил сторон.
2 октября 1920 года в Харькове было подписано соглашение между советским правительством Украины и представителями Повстанческой армии Махно о совместных действиях против Врангеля. Несмотря на то, что этот выгодный для обеих сторон союз продлился всего лишь полтора месяца, он сыграл значительную роль в разгроме последнего оплота Белого движения. При небольшой численности принимавшей участие в наступлении против Врангеля Повстанческой армии (от 2 до 6 тысяч человек по различным источникам), которой командовал ближайший сподвижник Махно Семён Каретников (сам батька после ранения находился на лечении сначала в Старобельске, затем после освобождения от белых Гуляйполя в своей «столице»), она сыграла значительную роль в победе Красной Армии над белыми.

По условиям соглашения большевистское правительство брало на себя обязательство прекратить преследование всех махновцев и анархистов на территории Советской России, а также разрешить свободную агитацию и пропаганду махновцами и анархистами своих идей без всяких призывов к насильственному ниспровержению Советского правительства. В военном отношении армия Махно входила в состав вооружённых сил Республики как партизанская, полностью сохраняя свою организацию. Однако в оперативном отношении она подчинялась Главному командованию Красной Армии. Семьи махновцев, проживающие на территории Советской Республики, приравнивались к семьям красноармейцев, что давало им право на получение определённых льгот. Командование Повстанческой армии обязалось, в свою очередь, не принимать в свой состав отдельных частей РККА, а также лиц, дезертировавших из регулярных соединений Красной Армии.
Впоследствии, в советской литературе можно было встретить такие утверждения, что переход Махно на сторону Советской власти в октябре 1920 года был вызван стремлением разложить Красную Армии изнутри и склонить советские части к переходу на свою сторону.
На самом деле, это верно лишь отчасти. Некоторые регулярные части Красной Армии по уровню отсутствия воинской дисциплины и склонности к «партизанщине» могли с лёгкостью дать фору махновцам. Разлагать их не требовалось, они и так были разложены до такой степени, что доставили головной боли советскому командованию едва ли не больше, чем Врангель и Махно вместе взятые.
Как прославленная 1-я Конная едва не стала «союзницей» Врангеля
Ярким примером может служить 1-я Конная армия – те самые легендарные будённовцы, которым большевики обязаны своими грандиозными победами над Деникиным, а затем поляками. Так, переход 1-й Конной армии с польского фронта на врангелевский в конце сентября – начале октября 1920 года едва не обернулся полным разложением и гибелью этого прославленного соединения или, как деликатно отмечал начальник политотдела Конармии Илья Вардин, это был «период тяжёлого внутреннего кризиса».
Так, бойцы 6-й кавалерийской дивизии учинили серию жестоких еврейских погромов и убили военного комиссара дивизии Георгия Шепелева, пытавшегося остановить насилия, мародёрство и бандитизм со стороны красных конников. Потерявшие всякий контроль конармейцы учинили бесчинства под лозунгами: «Идём почистить тыл от жидов», «Идём соединиться с батькой Махно», «Бей жидов, коммунистов и комиссаров». Так в местечке Любар при бездействии и попустительстве со стороны комсостава красными бойцами было убито около 60 евреев, в Прилуках и Вахновке – разгромлены винные заводы, убито свыше 40 человек. Женщины насиловались прямо на улицах, а девушки покрасивее были взяты в обоз. Также погромам подверглись местечка Плисков, Зозово, Самгородок, Спиченцы, город Тараща Киевской губернии (см. Книга погромов. Погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период Гражданской войны 1918-1922 гг. Сборник документов. / Отв.ред. Милякова Л.Б. М., 2007. С. 435-438).
Ситуация, сложившаяся в 6-й кавалерийской дивизии 1-й Конной армии вызвала неподдельную тревогу у военного и политического руководства Советской России. Председатель Реввоенсовета Республики Лев Троцкий, главком Вооружённых сил Сергей Каменев и командующий Южным фронтом Михаил Фрунзе потребовали от членов Реввоенсовета Конармии Семёна Будённого и Климента Ворошилова немедленно самыми жёсткими мерами навести порядок во вверенном им соединении.
Для разоружения частей взбунтовавшей 6-й кавдивизии были задействованы Особая кавбригада (наиболее дисциплинированное соединение 1-й Конной), артиллерия и бронепоезда. Всего были арестованы и преданы суду Ревтрибунала свыше 300 конармейцев. 153 из них, в том числе начдив 6-й кавдивизии Иосиф Апанасенко и командиры бригад Василий Книга и Борис Погребов были приговорены к расстрелу, в отношении 34-х высшая мера была заменена общественными принудительными работами. 42 человека было оправдано. Остальные осуждены к различным срокам принудительных работ с применением условного наказания или без такового.
Правда, в ознаменование 3-й годовщины Октябрьской революции и ввиду исключительных боевых заслуг все представители комсостава 6-й кавдивизии были помилованы и отправлены в распоряжение начальника штаба Южного фронта с временным ограничением на занятие командных должностей и без права возвращения в 1-ю Конную армию (РГВА. Ф.245. Оп.9. Д.2. Л.185, 185 об.,186). В последующем упомянутые нами начдив и комбриги 6-й кавалерийской не только стали видными представителями советской военной элиты, дослужились до генеральских званий, но и избежали репрессий в 1930-е годы. Генерал армии Апанасенко и генерал-майор Погребов погибли в Великую Отечественную войну. Генерал-майор Книга войну пережил, хоть и не очень успешно командовал вверенными ему соединениями.

Вместе с тем, слухи о волнениях в 1-й Конной докатились до белого Крыма. Врангелевская пресса взахлёб писала о том, что самая грозная сила Красной Армии, её цвет и гордость повернула оружие против большевиков. Некоторые белогвардейские источники авторитетно утверждали, что во главе восстания стоит Будённый, который захватил Киев и теперь объявлен «изменником Революции и бандитом» (РГВА. Ф.245. Оп.9. Д.1. Л.53; РГВА. Ф.246. Оп.6. Д.5. Лл.137, 142). А начальник штаба врангелевской армии генерал Павел Шатилов даже составил воззвание к Будённому с предложением перейти на сторону белых, обещая ему не только прощение всех грехов перед белыми, личную и имущественную безопасность, но и чин командующего армией. Неизвестно, дошло ли обращение до адресата, но Семён Михайлович не только не помышлял переходить на сторону противнику, но и использовал свой авторитет для наведения порядка во вверенном ему соединении, подчас прибегая к очень крутым мерам.
Так, когда 27 сентября конармейцы 20-го кавполка 4-й кавдивизии заняли Бердичевскую тюрьму и самовольно выпустили оттуда всех арестованных, прибывшие немедленно в распоряжение полка Будённый и Ворошилов жёстко прекратили беспорядки, арестовав и расстреляв зачинщиков во главе с военкомом кавполка Титовым. Командир дивизии Семён Тимошенко и командир 1-й бригады Григорий Маслаков (через несколько месяцев перешёл с частью личного состава своей бригады на сторону махновцев) были жёстко предупреждены, что при повторении подобных случаев дивизия будет расформирована. Отметим, что именно 4-я кавалерийская дивизия считалась основой 1-й Конной армии. Её костяк составляли бойцы, которые «среди зноя и пыли с Будённым ходили» ещё с 1918 года, а в числе почётных красноармейцев 4-ки числился сам Иосиф Сталин.
«Котёл» на подступах к Крыму
Порядок в 1-й Конной армии был восстановлен. По плану командования Южного фронта на будённовцев возлагалась ключевая задача по разгрому основных сил врангелевской армии в Северной Таврии. Имевшая в своём составе четыре дивизии и насчитывавшая 16 тысяч сабель 1-я Конная армия должна была нанести главный удар с Каховского плацдарма, стремительно прорвать оборону противника и выйти к крымским перешейкам, отрезав отступавшие под натиском красных войска Врангеля от спасительного полуострова. 24 октября 1920 года Ленин лично телеграфировал в штаб 1-й Конной, требуя ускорить сосредоточение у Берислава, так как было бы «величайшим преступлением» упустить Врангеля и позволить ему укрыться за перекопскими и чонгарскими укреплениями. Начинать наступление без своей главной ударной силы красное командование не решалось.

В то же время белые после поражения за Днепром и под Каховкой стали медленно сдавать свои позиции. В ночь на 22 октября 1920 года махновцы нанесли внезапный удар по Дроздовской дивизии у Михайло-Лукашово северо-восточнее Александровска. Как писал в своих воспоминаниях Нестор Махно, дроздовцы были атакованы и разбиты его повстанцами так, как красными они никогда не разбивались. 23 октября белые оставили Александровск, 25 октября – Гуляйполе.
Между тем, Врангель не спешил сдавать с таким трудом завоёванные хлебные районы Северной Таврии и отводить войска в Крым. В белогвардейском штабе приняли решение дать красным бой в Северной Таврии и разгромить силами 1-й армии генерала Александра Кутепова каховскую группировку красных. Это при том, что состояние белых войск оставляло желать лучшего. Уже в конце октября ударили сильные морозы, а во врангелевских войсках обнаружился тотальный дефицит зимнего обмундирования. Личный состав был практически полностью разложен. Как писал находившийся в Крыму журналист Григорий Раковский, идейное содержание войны с большевиками было исчерпано до конца. Лучшие представители офицерского корпуса в безысходности кончали жизнь самоубийством от голода и душевных потрясений. Разруха царила и в тылу, где голод и лишения одних соседствовали с мотовством и нагуливанием жира в дорогих ресторанах другими. Количество уголовных преступлений, совершённых военнослужащими, возросло до невиданных ранее размеров. Агонизировал тыл, агонизировал фронт. Всеобщая апатия усилилась с известием о заключении Польшей мира с большевиками. Оставалась только надежда на неприступность перекопских и чонгарских укреплений. В войсках царила уверенность, что перезимовать удастся в Крыму.
26 октября 1920 года 1-я Конная сосредоточилась на исходных для наступления рубежах. В тот же день командующий советским Южным фронтом Михаил Фрунзе издал директиву о переходе в общее наступление. Над группировкой врангелевской армии в Северной Таврии отчётливо замаячила угроза «котла».

Дмитрий Павленко, специально для News Front





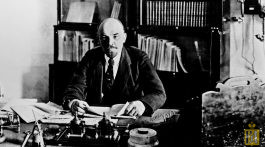






Нет Комментариев