ФОТО: СОФЬЯ САНДУРСКАЯ / АГН «МОСКВА»
На днях Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в ультимативной форме потребовал от России принять закон «О профилактике семейно-бытового насилия», который либерал-феминистки продвигают через Госдуму с 2016 года, и недавно в очередной раз снятый депутатами с обсуждения. Ввиду попытки столь наглого давления на наших парламентариев извне самое время вспомнить о также отложенном законопроекте, прозванном «законом семи сенаторов» – принципиальной русской альтернативе европейскому ювенальному законотворчеству.
Евросудьи топают ножкой
Все наши либеральные издания взахлёб и с придыханием поведали нам, что ЕСПЧ «впервые в истории вынес пилотное постановление» с удовлетворением исков четырёх русских женщин, которые пострадали от «домашнего насилия». Со злорадством перечисляются немалые суммы, которые «государству потребуется выплатить женщинам», с дрожью в голосе упоминается вынесенная на «знамя» правозащитников Маргарита Грачева, которой зверь-муж отрубил кисти рук. Почтительно упоминаются статьи «вердикта» Страсбурга, который «посчитал Россию нарушившей ст. 3 Европейской конвенции о запрете на бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и ст. 14 о запрете дискриминации». Некоторые пункты из этого предписания прямо-таки умиляют. Например: «Российские власти обязаны разработать план действий по изменению общественного мнения о гендерном насилии в отношении женщин и распространить информацию о существующих правовых и других средствах защиты для пострадавших». Ага, прямо, вот сейчас должны всё бросить и козырнуть к исполнению!
Между тем многие соотечественники, включая депутатов, уже хорошо понимают, что вынесение «семейного насилия» в отдельную судебно-правовую категорию направлено не на «защиту русских женщин», а на разрушение традиционной семьи с натравливанием жён на мужей и детей на родителей. И тесно связано с «ювенальным правом», санкционирующим изъятие детей из семей по любому высосанному из пальца поводу.
«Первый русский» уже не раз разбирал диверсионный смысл и истоки подобного законодательства, идущего к нам с Запада. А также принципиальные различия законопроектов Оксаны Пушкиной и просемейного «закона семи сенаторов», разработанного членами Совфеда Е.Б. Мизулиной, Е.В. Афанасьевой, А.Д. Башкиным, Р.Ф. Галушкиной, М.Г. Кавджарадзе, Л.Б. Нарусовой и М.Н. Павловой. Напомним о сути последнего и причинах яростного противодействия ему со стороны тех самых сил, что лоббируют в парламенте закон-антипод.
На кону – русские семьи. Почему не принят «закон семи сенаторов»
Эксперты оценивают пакет поправок в Семейный кодекс от Елены Мизулиной как настоящую «консервативную революцию» в сфере семейного законодательства. Отсюда понятно, почему он встал костью в горле влиятельного ювенального лобби и был отправлен на доработку. Как бы в «компенсацию» отсрочки рассмотрения переработанного закона Пушкиной и Ко.
При внесении законодательного пакета в июле прошлого года против него не возникло возражений ни у одного думского комитета. Главный инициатор законопроекта Елена Мизулина сообщила, что на него было получено 67 отзывов из 51 субъекта России, при этом 57 отзывов – однозначно положительные и лишь три – резко критические.
Но уже в процессе первого чтения, состоявшегося осенью 2020 года, думские комитеты «передумали». Так, антикоррупционный комитет отметил, что «представленный законопроект вносит существенные изменения в понятийный аппарат федерального закона № 120-ФЗ в целом, что без приведённых аргументов и анализа практики представляется преждевременным». По мнению же правового управления Госдумы, проект закона вдруг стал нуждаться «в существенной юридико-технической доработке». Разные «несоответствия» неожиданно нашёл в пакете сенаторов и «семейный» комитет.
В случае принятия закона баланс прав и интересов в семье может быть смещён в сторону прав родителей при заведомо более слабой позиции детей,
– было сказано в заключении правительственной комиссии по законопроектной деятельности. После этого проект был снят с рассмотрения и отправлен на доработку.
Между тем в ноябре этого года вдруг стало известно, что в правительстве России появится некое единое ведомство по проблемам семьи и детей, которое будет регулировать деятельность органов опеки и заниматься профилактикой «семейного неблагополучия». В состав комиссии Межведомственной рабочей группы, которую возглавила вице-премьер Татьяна Голикова, вошли замы из пяти министерств, губернаторы Томской области и Красноярского края, представитель Общественной палаты сенатор Инна Святенко (активный лоббист закона, разрешающего иностранцам пользоваться в России услугами суррогатных матерей), директор департамента труда и соцразвития Москвы Евгений Стружак, представитель департамента соцразвития правительства России. Логично предположить, что этот орган создаётся под обновлённое семейное законодательство. Только вот в какую сторону пройдёт обновление? Это остаётся интригой, весьма волнующей, как мы видим, и наших «европартнёров». А ведь истоки и глубинный смысл законодательства в этой сфере имеют не «проходное», а поистине фундаментальное значение для будущего России.
«Ячейка общества» или «малая церковь»: история вопроса
Дело в том, что в СССР, в отличие от Российской Империи, семья уже не рассматривалась как «малое государство» или, по-православному, «малая церковь» со своими законами. Так, жена всегда могла пожаловаться на мужа в партком, и того унизительно разбирали на собрании: могли влепить выговор «за аморалку» или даже общественно осудить за «неисполнение супружеских обязанностей». Дети же, по сути, считались «собственностью» государства, а сама семья – «ячейкой общества».
Со временем антисемейная ярость ранних большевиков в духе «Двенадцати заповедей революционного пролетариата» Арона Залкинда всё же укротилась, во многом вернувшись к традиционному пониманию семьи, в которую не надо слишком активно влезать государству. А потому рождённый в силу этого понимания «Кодекс о браке и семье РСФСР» 1969 года, во многом унаследованный ельцинским «Семейным кодексом РФ» 1995 года, оказался не столь уж и плох.
Но уже во второй половине 1990-х в Семейный кодекс начали вносить поправки, сближая его с западным ювенальным правом. В итоге в нём оказались положения, весьма далёкие от русских семейных традиций. Следствием чего стали эксцессы насильственного изъятия детей органами опеки и выстраивание дальнейших ступенек к ультралиберальному европейскому законодательству. Именно этого от России и начал настойчиво требовать Совет Европы, в чьи объятия мы так тогда стремились. Ныне вроде бы перехотели, но, увы, не все.
Судите сами: из стен Совета Федерации выходит правовая альтернатива «ювеналке» – начальная ступень в противоположном от неё направлении. Пакет семи сенаторов возвращает Семейный кодекс к традиционному русскому приоритету семейного права над государственным и естественных родительских прав над искусственными «правами ребёнка». И эта альтернатива встречает яростное сопротивление проювенальных и антисемейных сил.
Но что же именно так «ощетинило» его оппонентов? Разберём детально.
О чём закон «7С»?
Большая часть поправок семи сенаторов по-новому регулирует работу органов опеки и изъятия детей из семьи. Так, изъять ребёнка из семьи можно будет только при доказанной вине родителей на основании вступившего в законную силу решения суда о лишении родительских прав либо об их ограничении. Сенаторы жёстко сужают действующие основания для ограничения родительских прав, перечисляя их по пунктам. При этом такое ограничение не будет распространяться на родителей в случае отсутствия с их стороны вины, например, в случае болезни.
Согласно проекту закона «7С», органы опеки без согласия родителей или родственников не могут войти в квартиру для проверки условий проживания детей. Предложено самим родителям назначать временного опекуна для ребёнка. Оформлять опеку и попечительство на другого человека они смогут по серьёзной причине, например, при длительной командировке, заключении или болезни. При этом опеке запрещается отказывать родственникам ребёнка в его передаче на попечение из-за недостаточного дохода или несоответствия жилья попечителей санитарным требованиям.
Другая поправка гарантирует право родителей привлекать для воспитания детей родственников без специального оформления их полномочий. Скажем, у бабушки с дедушкой или дяди с тётей даже в отсутствие родительской доверенности нельзя будет отобрать внуков и племянников. Если ребёнка всё же изъяли из семьи из-за тяжёлой болезни родителей, возможность его общения с ними должна сохраняться, кроме случаев прямого запрета суда. Кроме того, пакет законопроектов гарантирует совместное устройство братьев и сестёр, оставшихся без попечения родителей.
При этом в предложенном сенаторами законопроекте есть несколько положений, которые «возбудили» не только ювенальное лобби, но и другое близкое ему сообщество. Так, документ провозглашает «запрет на усыновление детей лицами одного пола, в том числе сменившими пол». Согласно проекту закона, «сведения об изменении пола вносятся в акт гражданского состояния», при этом «изменения в акт о рождении не допускаются».
Действующий в России запрет на регистрацию «однополых браков» дополняется запретом на браки для сменивших пол. Одновременно предлагается запретить усыновлять детей заключившим «однополый брак» в другой стране, «а также внебрачным гражданам стран, в которых такой брак разрешён». Таким образом, закон «7С» удаляет из круга возможных усыновителей целую группу влиятельных и денежных заказчиков. И это явно напрягает всех причастных к данному бизнесу.
Главный инициатор законопроекта Елена Мизулина напоминает, что сейчас, чтобы отобрать ребёнка, достаточно того, что в квартире грязно или недостаточно бытовой техники. Новый закон, по её словам, остановит действующий механизм «произвольного превращения детей в сирот, произвольного вторжения в семьи, в жилища и лишения родительских прав». Предложенные поправки вводят «принцип презумпции добросовестности осуществления родительских прав»:
Семейный кодекс объявляет, что все родители изначально добросовестно осуществляют свои обязанности по воспитанию детей, если иное не будет установлено вступившим в законную силу решением. Сейчас – наоборот.
Что с того?
В прошлом июле в центре Петербурга около десятка содомитов вышли с одиночными пикетами к Гостиному двору, протестуя против законопроекта семи сенаторов. Но это – лишь верхушка тех сил, которые пытаются торпедировать проект закона «7С». Его главные враги не протестуют на улицах. Они работают во властных комиссиях и комитетах.
Ныне в поддержку этой «шестой колонны» прямо выступили её кураторы из ЕСПЧ. И хотя еврочиновники из Страсбурга так же прямо не оппонируют законопроекту Мизулиной, понятно, что их интерес к «гуманизации» нашего законодательства откровенно направлен на принятие закона «о семейном насилии» и наоборот – отказе или максимальном выхолащивании его альтернативы.
Останется ли в «компромиссном варианте» доработанного «закона семи сенаторов» главная суть: возвращение русским семьям их исконной сути, защищаемой законом «7С» от произвола и вмешательства извне? Пока неясно. Но что совершенно точно, за это стоит бороться всем миром. Русским миром.
Что касается таких внешних органов «надзора», как Страсбургский суд, который смеет менторским тоном что-либо указывать России, то можно вспомнить известного обер-прокурора Священного Синода Константина Победоносцева. Василий Розанов писал:
Как мне нравится Победоносцев, который на слова «Это вызовет дурные толки в обществе» – остановился и не плюнул, а как-то выпустил слюну на пол, растёр и, ничего не сказав, пошёл дальше.
Только вместо «в обществе» здесь стоит поставить – «в Европе». И спокойно идти дальше своим путём.







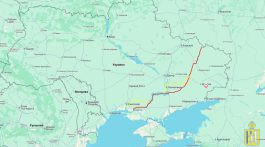







Нет Комментариев